
Конечно, правда, и это давняя традиция, которая родилась не сейчас. Я думаю, что она покоится на нескольких весьма старых, если не сказать древних основаниях. И именно эти многовековые основания постоянно реанимируют пресловутый отечественный «коллективизм». На мой взгляд, основания эти следующие. Во-первых, общинный характер земледелия и социального устройства русской деревни. Крестьянская община (или в древнерусской терминологии «вервь») существовала, по меньшей мере, со времён Русской правды. Именно этот «коллективный» способ низовой социальной организации оказался настолько устойчивым, что даже земельная реформа Столыпина не смогла его сломать. Россия была страной крестьянской, земледельческой и очень архаичной по способу аграрного производства. Отсюда и столь долгое сохранение архаичных форм деревенской жизни. Определялось ли это природными условиями, судить не берусь, но сам по себе земледельческий труд в европейской части России был делом очень тяжелым и малопродуктивным. Общинная организация естественным образом была сопряжена с доминированием общего над частным, со своеобразной «публичностью» частной жизни, гипертрофированным значением крестьянского «мира» («перед всем миром», «всем миром», «на миру и смерть красна» и т. д.).
Городской индивидуализм в дореволюционной России, конечно, зарождался, но эта «новая» культура, капиталистической по сути формации, была сломлена после 1917 г. Деревня ринулась в город, старое городское население с еле зародившимися новыми традициями подавлялось и со стороны власти сознательно «растворялось», так что чрезвычайно быстро деревенская культура полностью поглотила городское социальное пространство. Бабки на лавках перед подъездами, знающие всё про всех и всех обсуждающие — лишь один из наиболее ярких визуальных образов этой «коллективистской» традиции. Тот же глубинный архетип позволил успешно осуществить коллективизацию (слой деревенских «кулаков» был сравнительно небольшим, а их восприятие со стороны основной крестьянской массы было преимущественно негативным) и утвердить советский строй с его тотальным приматом общего над частным.
Большевистская власть с определенного момента стала воспроизводить традиционные формы и установки, в чем и заключается причина ее устойчивости и даже успешности на протяжении столь долгого времени
Во-вторых, формированию «коллективизма», безусловно, способствовало православие с его «соборностью» и проповедью безоговорочного послушания властям. В-третьих, политическая организация патерналистско-самодержавного типа, окончательно оформившаяся в период Московского царства. Европейские реформы, проводившиеся со времён Петра Великого, затронули лишь сравнительно небольшие слои населения и существенно не изменили абсолютистской сути российского монархического режима. Все подвижки в ином направлении, начавшиеся со времён Великих реформ Александра II и ощущавшиеся (впрочем, в весьма непоследовательном виде) и в период последнего царствования, были сметены революционными событиями 1917 г. и последующих годов. Большевистская же власть с определенного момента стала воспроизводить традиционные формы и установки, в чем и заключается причина ее устойчивости и даже успешности на протяжении столь долгого времени. Жесткая организация политической власти в сочетании с крепостным правом могли привести в случае недовольства лишь к двум последствиям — стихийному бунту или индивидуальному бегству. Сознательный индивид предпочитал второе, понимая или интуитивно ощущая невозможность противостоять незыблемости «коллективистского» мира. Западноевропейская цивилизация со времён Средневековья, как известно, пошла по другому пути. Мне представляется, однако, что в конкретной истории России огромную роль во влиянии на народный менталитет сыграл двухвековой период ордынской, азиатской власти над русскими землями.
По тем же самым причинам, о которых я сказал выше. Коллективная собственность, коллективная ответственность, обсуждаемая частная жизнь — всё это признаки того самого доминирования общего над частным, которое столь характерно для традиционной организации русской жизни.
Я полагаю, что авторитет возраста характерен не только для России. Он в принципе характерен для архаической традиции, элементы которой сохраняются во многих обществах (например, азиатских). Россия — страна патерналистских традиций. Глава семьи должен обладать непререкаемым авторитетом («домострой»), таков же авторитет «государственного» «отца» — царя-батюшки, подданные которого уподобляются «неразумным детям», «сиротам». Традиционный семейный уклад не способствует ранней индивидуализации младших. Соответственно их мнение не может иметь веса, а то, что они могут иметь равные со взрослыми права, воспринимается как кощунство. Я не думаю опять-таки, впрочем, что это — особенность преимущественно русской культуры. Однако особенность эта очень устойчива и, по-видимому, связана с теми моментами, о которых говорилось выше. О конкретной исторической эволюции этого явления я судить не берусь.

Важно не только ответить на этот вопрос с позиций исторической или психологической реконструкции, но и зафиксировать, что это так. Это довольно неочевидный момент для людей, живущих «внутри» российской культуры и не сравнивающих себя с другими. Впервые об этом заговорили, когда границы с Западом после холодной войны открылись, уровень доходов населения повысился настолько, чтобы свободно путешествовать на Запад, в частности, в Западную (не только в постсоциалистическую) Европу и Северную Америку. Это был своего рода культурный шок, связанный с переживанием (может быть, впервые осознанным) себя как значимой в глазах другого личности, самоценность которой признается даже, казалось бы, в «незначимом» сиюминутном повседневном взаимодействии.
Неуважительность к Другому как основная характеристика современной России проявляется на нескольких уровнях: на политическом уровне это связано с непризнанием идейного или идеологического оппонента значимым субъектом политического сообщества; на бытовом — с привычным нам бытовым хамством, пренебрежением и невниманием к личности другого; на бюрократическом (в работе социальных служб, предприятий) — с незначимостью единичной личности, нужды которой — лишь «помехи» для работы социальных служб, а не объект их заботы.
даже если формально советская тоталитарная система осталась в прошлом, у нас не было проведено никакой общенациональной политической программы детоталитаризации, как то было, например, в постнацистской Германии
Причин такой ситуации несколько. Во-первых, тоталитарная советская система долгие десятилетия отучала нас ценить в человеке личность, признавать его индивидуальные права, свободы и самоценность. Во-вторых, даже если формально советская тоталитарная система осталась в прошлом, у нас не было проведено никакой общенациональной политической программы детоталитаризации, как то было, например, в постнацистской Германии. Германия реализовала масштабные проекты денацификации и работы траура (Trauerarbeit), которые позволили переосмыслить тоталитарное пошлое и построить новое государство и общество на демократических основаниях. Сегодня коммуникативная культура Германии, этическое коммуникативное самосознание немцев — одни из самых развитых в мире. В-третьих, преодоление прошлого возможно не только при переоценке прошлых ценностей, но и при выработке новых, которые бы могли определять этику социального и политического взаимодействия сегодня. Этих ценностей не было выработано в России, никто не ставил перед собой такой целенаправленной задачи на уровне общенационального проекта. Попытки создать образ национальной идентичности в последние годы обычно упирались в «русский национальный характер», идею православия и патриотизма. Но эти ценности и субстанциальные онтологические характеристики не включают в себя фигуру Другого как этически, социально, политически значимого лица.
Ссылки на исторически обусловленную «открытость и доброжелательность русской души» (бытовые и в официальных речах политиков, например, первого лица государства) просто не соответствуют действительности. Русские бывают открыты и доброжелательны, но это имеет свои социальные и политические ограничители и детерминанты. Например, захлестнувшая Россию, как страну с «догоняющей» экономикой, волна коммерциализации бытовых услуг в 2000-2010-х годах показала, что русские очень хорошо поддаются коммерческой прагматизации отношений — они легко готовы пожертвовать личными границами других (как, впрочем, и собственным достоинством), чтобы продвигать какой-то товар или услугу (вспомните многочисленные бесцеремонные звонки на личные телефоны с целью коммерческих предложений, навязчивая аудиальная реклама в московском метро, нарушающая приватное пространство «внутренней тишины» москвичей и т. д.). Или пропаганда центральных СМИ, целенаправленно вырабатывающая у нас образ Запада как врага, а его либерально-демократической модели — как чуждого нам образа жизни.
На Западе (прежде всего, в западной Европе и Северной Америке) культура коммуникации целенаправленно развивалась и имеет институциональные основания. Во-первых, это укоренено в структуре образования. В западных образовательных программах есть предметы, сюжетом которых является фигура и проблематика Другого — это дисциплины, связанные с проблемами репрезентации Другого, культуры гражданского соучастия, роли демократии в современном обществе и т. д. Во-вторых, это укоренено в политической культуре признания Другого, например, в институционально регламентированной культуре публичных дебатов. В-третьих, социальные службы ориентированы на презумпцию ценности личности и ее значимых границ. В-четвертых, эти коммуникативные ценности европейцев и американцев целенаправленно вырабатывались средствами этической философии и этико-политической нормативной мысли на протяжении всего ХХ века. Достаточно почитать таких разных авторов, как М. Бубер, Х. Арендт, Ю. Хабермас, С. Бенхабиб, Дж. Батлер А. М. Янг, чтобы понять, до какой степени эта фигура Другого сегодня проблематизирована в западной теории и, как важное следствие этого, — в теоретическом и бытовом, интуитивном мышлении западного человека (не только интеллектуала).
При этом наши политики любят говорить о том, что у России свой путь и, если ей и нужна какая-то демократия, то она будет пытаться выработать ее особый облик. Обычно при этом ссылаются на традиционные ценности: семью, религию, любовь к отечеству. Но уважение Другого, признание Другого, различение Другого — это как раз уже не может быть отнесено сегодня только к субстанциальной онтологической или национальной традиции. Это фигура появляется, прежде всего, как фигура модерности, современности, которая требует новых ресурсов осмысления, артикуляции, интеграции в социальное и политическое пространство, в культурные практики, в новое коммуникативное самосознание. Это фигура, которая, в какой-то степени, требует переосмысления и переопределения всего культурного и политического ландшафта, его опор и базовых ценностей.
В последнее время в российской официальной риторике всё чаще звучат призывы к диалогу, артикулируются ценности диалогической открытости и партнерства, взаимоуважения и признания взаимозависимости сторон. Это делает Россию более договороспособным и предсказуемым собеседником на международной арене, придает ей этическое и политическое достоинство, открывает новые возможности для международного сотрудничества и взаимопонимания. Однако для реализации этой политической программы необходимы практические модернизационные шаги-проекты на уровне одновременно образования, политического дискурса, институтов медиа и т. д. Особенно важно, чтобы Россия делала попытки учитывать опыт тех стран, которые уже прошли этот путь, и начала вырабатывать собственные ценностно-нормативные теории и программы коммуникативного взаимодействия.
Почитать об этом: Татьяна Вайзер. Борис Дубин. Культура дистанции, культура Другого // Новое литературное обозрение. Там же см. библиографию на работы Б. Дубина по проблемам значимого Другого, значимых границ себя и других в контексте постсоветского общества.

Говоря о таких вещах, нельзя не учитывать роль культурно-исторических факторов. В России крепостное право сохранялось долго, вплоть до второй половины XIX века. Вскоре произошла смена общественных формаций, и снова восторжествовала общинность на этот раз в виде искусственно насаждаемых так называемых коллективных и советских хозяйств. Параллельно формировалась коллективистская идеология, в рамках которой к любым проявлениям индивидуального — приватного — относились с большим подозрением (достаточно вспомнить уничижительное «буржуазный индивидуализм»).
По-другому это можно выразить так: в России и Европе принципиально разные дисциплинарные практики, то есть совокупность норм, институтов (в том числе образовательных) и системы высказываний (в самом широком смысле), благодаря которым возникают определенным образом оформленные социальные тела. Эти тела интериоризируют — овнутряют — правила, по которым живут, поэтому их поведение кажется нам столь «естественным». В западной традиции превалирует понятие автономного субъекта, с давних пор провозглашены и соблюдаются его свободы и права, существует целая система правовых институтов, обеспечивающих это соблюдение. На Западе принято уважать такие ценности, как свобода, жизнь и стремление к счастью (именно эти слова вы найдете в американской Декларации независимости 1776 года). В русской — российской — традиции превалируют другие ценности. Опыт коммунистического строительства ставил идеал выше отдельной личности, более того, миллионы людей были, по существу, принесены в жертву идеалу. У нас совершенно разные истории, и этим объясняется и то, как люди взаимодействуют между собой.
До сих пор неясно, как называть друг друга, если не пользоваться словом «товарищ». Это не лингвистические трудности. Это трудности самоопределения в обществе, которое по-прежнему не знает, из кого оно состоит
В России вы каждый день сталкиваетесь с нарушением дистанции. Каждый день вас кто-то толкает, подхватывает, напирая на вас спереди или сзади, каждый день в метро вам бросают дверь буквально в лицо. И никто никогда не извиняется. Плохое воспитание? Безусловно. Но и принадлежность общему, коммунальному телу, где нет индивида, нет физических границ, а стало быть, не может быть и их нарушения. Это тело живет по своим внутренним законам, и, когда вы становитесь его частью, не надо надеяться на проявление вежливости у отдельных граждан. Гражданин — не случайное слово. Вместо граждан — citoyens (если вспомнить Великую французскую революцию) — у нас «мужчины», «женщины», «крайние» в очереди и прочие неопределенные категории тех, кто оказывается с нами рядом в публичном пространстве. До сих пор неясно, как называть друг друга, если не пользоваться словом «товарищ». Это не лингвистические трудности. Это трудности самоопределения в обществе, которое по-прежнему не знает, из кого оно состоит и которое продолжает насаждать коммунальные ценности — под эгидой православия, исторической особости, апелляции к традиции и проч. Сегодня, правда, интересно наблюдать, как в нашем обществе меняется композиция упомянутых выше дисциплинарных практик. Горестно то, что «традиционные ценности» (как бы те ни понимались) сочетаются с растущей нетерпимостью к другим и сознательно эксплуатируемым мракобесием.

Ответ на этот вопрос зависит от того, что мы будем понимать под словом «общество». Если речь идет о гражданском обществе, то в силу несформированности последнего в России сам вопрос лишается смысла. Если мы говорим о тех или иных средах — институциональных, локальных, профессиональных, микрогрупповых, — то я бы дал на этот вопрос отрицательный ответ: нет, неправда. В силу того, что поведенческие навыки подавляющего большинства российского населения ориентированы на крайнюю социальную атомизацию (обособление индивидов друг от друга вследствие распада социальных и личностных взаимодействий между ними — Прим. ред.). Те формы социального взаимодействия, которые предполагают сколько-нибудь массовую вовлеченность, в значительной мере обслуживаются за счет имитационных стратегий участия.
 WWW.UCHEBA.RU
WWW.UCHEBA.RU

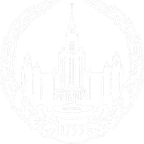
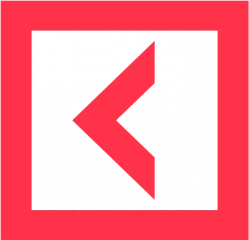
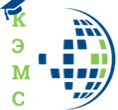


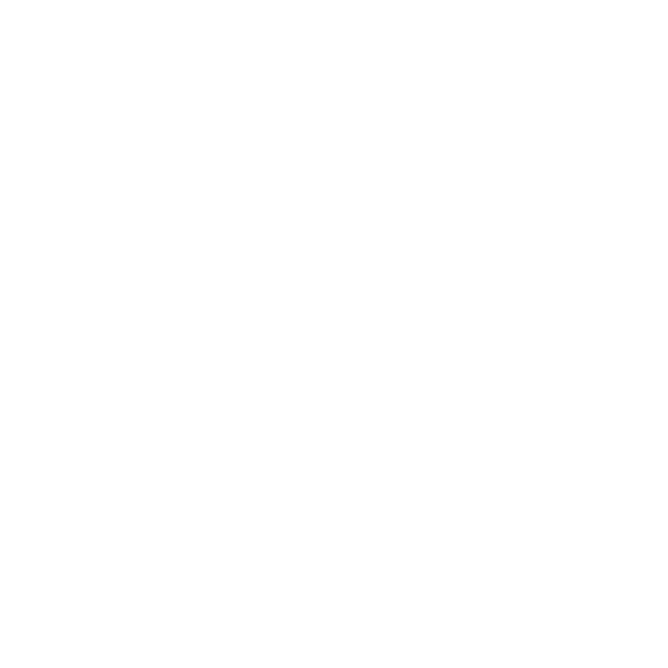
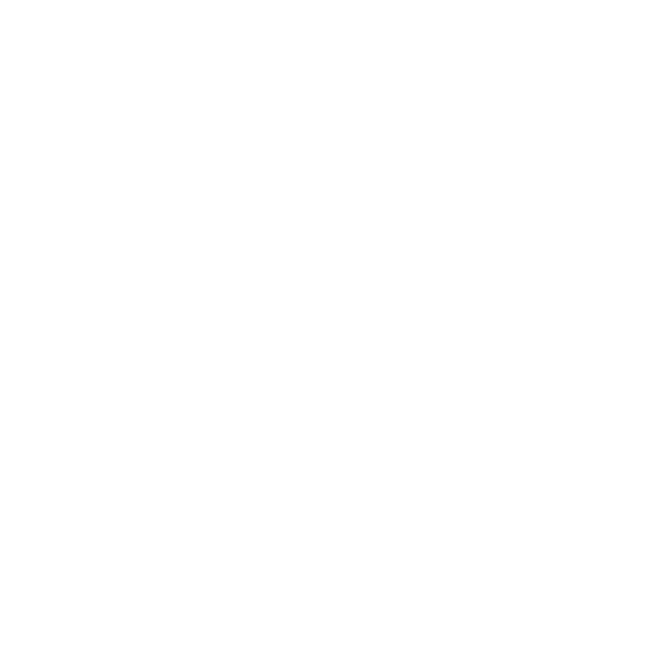
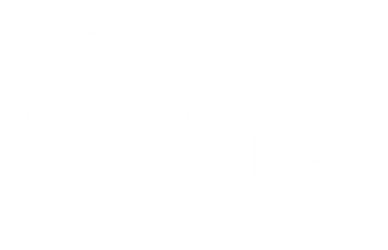
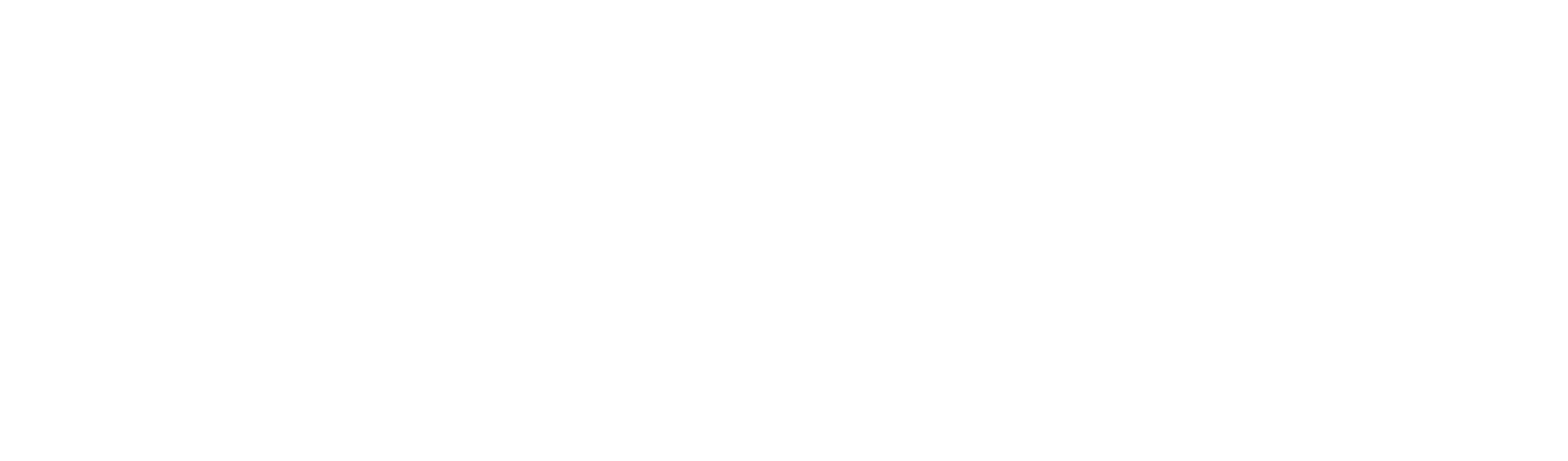
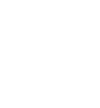
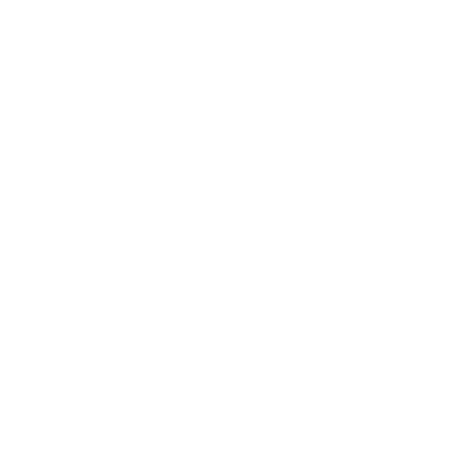
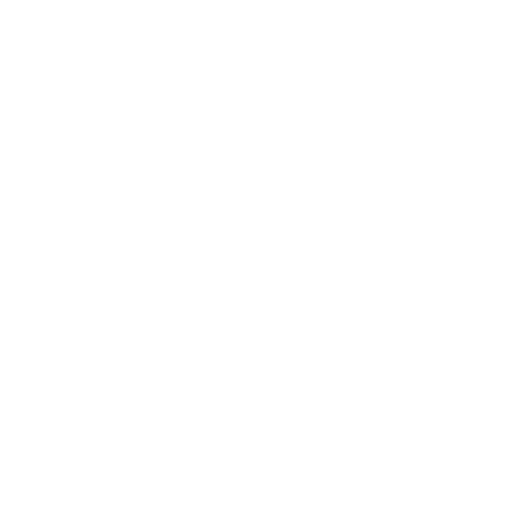

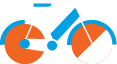
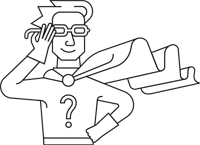


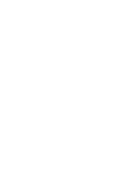

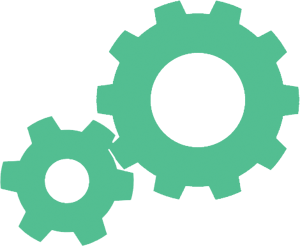


Обсуждение материала
Оставить комментарий